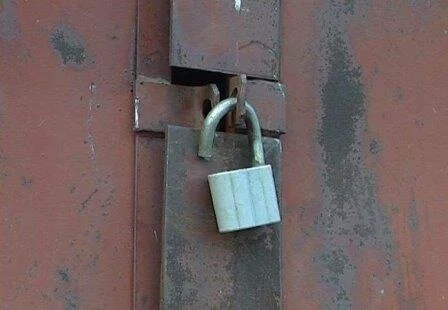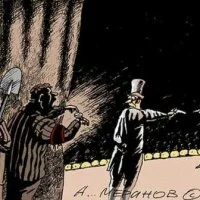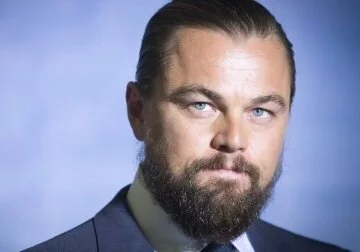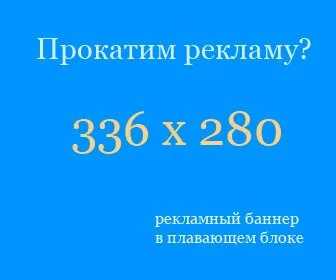

-
Предупреждение США о конфликте с...Мы, нижеподписавшиеся – русские, которые живут и работают в США. Мы наблюдаем с возрастающей...
-
Повара Бурятии научили кулинаров...Более ста китайских туристов попробовали русскую окрошку и салат из омуля
-
Большая победа маленькой киевлянкиЭту статью мне прислали из Киева. Она о 9 мая, о георгиевской ленточке. И о маленькой девочке,...
-
В Бурятии Миграционная служба...Миграционная служба и наркоконтроль Бурятии войдут в состав правоохранительных структур уже к...
-
В Бурятии водители без прав, севшие...В республике первый раз привлекли к административной ответственности людей, лишенных прав...
-
Госслужащий из Бурятии присвоил...На главного специалиста администрации Тункинского района начато уголовное разбирательство
-
Жители Бурятии расходуют на кредиты...При всем при этом практически у 80 % населения республики имеется задолженность перед банками...

Мы, нижеподписавшиеся – русские, которые живут и работают в США. Мы наблюдаем с возрастающей тревогой, как политика нынешнего руководства США и НАТО вывело их на чрезвычайно опасный курс столкновения с Российской Федерацией, а также и с Китаем. Подробнее

Более ста китайских туристов попробовали русскую окрошку и салат из омуля Подробнее

Меры предосторожности при получении кредитов или займов в Бурятии Подробнее

Эту статью мне прислали из Киева. Она о 9 мая, о георгиевской ленточке. И о маленькой девочке, что теперь не понаслышке знает, что такое фашизм. Остальное вы прочитаете… Подробнее